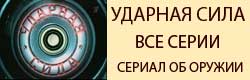«Кормление от дел»
Обратимся к свидетельствам подьячих другого «невыгодного» приказа — приказа Великого княжества Литовского. В 1622 г. один из его подьячих, И. Патрикеев, жаловался на то же: «В приказе Великого княжества Литовского челобитчиковых дел нет, и ему з женою прокормитца нечем»177. Подьячий средней статьи Смоленского приказа С. Дядькин, имевший оклад в 10 руб. 50 коп., утверждал в 1675 г., что окладным жалованьем «в год не прокормитца... А таких челобитчиковых дел, чем бы в год пропитатца, в приказе Княжества Смоленского нет»178. Таким образом, основной в жалобах приказных людей была ссылка на отсутствие в приказах, где они работали, «челобитчиковых дел», т. е. дел, связанных с разрешением судебных и других частных вопросов. Вопрос о наличии челобитчиковых дел в компетенции приказов находился, в свою очередь, в зависимости от количества подведомственных ему территорий. Таким образом, «невыгодность» приказов связывалась с их строго функциональным назначением, как, например, Посольского, не имевшего территориального характера. Только в отдельные моменты ему придавалось ведение отдельными городами, да и то в основном косвенно.
Следовательно, приказы, подьячим которых платилось наиболее высокое жалованье, дьякам же их оклады выдавались ежегодно и полностью, были наиболее «невыгодными», а повышенные и дополнительные оклады их служащим являлись своего рода компенсацией за отсутствие «доходных дел». Напротив, в «выгодных» приказах, в связи с сильным увеличением в них во второй половине века количества неверстанных подьячих, с нерегулярностью выдач подьяческих и дьяческих денежных окладов и с отсутствием дополнительных форм жалованья, основная часть приказных доходов все более перемещалась на так называемые «доходы от дел».
Знаменательно, что право на получение подобных доходов признавалось правительством, которое в указе 9 декабря 1697 г., обращенном ко всем подьячим, прямо свидетельствовало, что «за его, великого государя, жалованье и за подаяние от челобитчиков они (т. е. подьячие. — Н. Д.) питаютца»179, тем самым объявляя вторую статью дохода столь же правомерной, как и первую. В 1677 г., когда разразился крупный скандал в связи с тем, что 40 приказных дьяков не пустили к себе домой христославить на рождество царских певчих дьяков, разгневанный царь приказал «за такую их дерзость быть им в приказех бескорыстно, и никаких почестей и поминков ни у ково ничего ни от каких дел не имать»180. Эта чрезвычайная мера наказания была временной и отнюдь не ставила под сомнение возможность подобных поборов в другое время. Для нас важно, что указ выделяет два вида «корыстных» доходов — «почести» и «поминки».
Ценным источником для выяснения их характера и объема являются «издержечные книги» земских целовальников, а также приказчиков различных владельцев, которые обращались по делам в приказы и приказные избы и подробно отчитывались в произведенных в связи с этим расходах. Для московских приказов мы располагаем расходной росписью слуги Спасо-Прилуцкого монастыря 1677-1678 г. При обращении по делам в Стрелецкий приказ им было принесено «в почесть»: дьяку И. Максимову — 10 руб., пирог в 3 алтына, голова сахара в 2 алтына;
старому подьячему С. 3. Зотову — 8 руб. и пирог в 2 алтына 2 деньги; молодому подьячему С. Забурцеву — 3 руб. Приношения натурой делались и холопам дьяка и старого подьячего.
Значительно более богатыми материалами мы располагаем для доходов «от дел» дьяков и подьячих приказных изб северных городов — Устюга Великого, Сольвычегодска, Яренска и др. Живучесть пережитков кормлений здесь выступает особенно ярко. То, что порядки кормлений для администрации этих изб имели место, подтверждается многочисленными запрещениями из центра. Так, в грамотах 1668 и 1677 годов на Чердынь читаем: «Воеводам и подьячим месячных кормов, и дров, и сена, и посуды всякие, и денщиков себе имать не велено»181. Однако приношения натурой продолжали практиковаться.
Еще одним способом наживы для подьячих приказных изб были поездки по уезду. Деньги на проезд и содержание во время них собирались с населения, нередко злоупотреблениями. Приказчик галицкого помещика В. Исакова так писал в 1674 г. о действиях подьячего Галицкой приказной избы В. К. Кусынина во время одной из таких поездок: «... ямщину малую и белой корм брал не против твоего, государева, указу: брал вдвое и больши»182. В 1666 г. при приезде воеводы с подьячими из Хлынова в Слободской земскими старостами было «покупано на них хлеба, и калачей, и рыб, и всяких харчей, и варено на них пива»183. В некоторых случаях натуральный корм заменялся денежными выплатами. Большей частью подобные поездки совершались по служебным делам, но иногда только с целью вымогательства. Так, в 1653 г. лебедянские жители жаловались на лебедянского же подьячего, который «о рождестве Христове славить ездит... в городе, по слободам, по уездам и по деревням; не славить, государь, ездит, нас насильством грабит, и животишков наших, что у ково у нас в домишках увидит, то насильством и возьмет»184.
Наиболее четко характер «почестей» и «поминков» проявлялся во время непосредственного обращения населения в приказные избы для решения конкретных дел. «Почестями» обычно назывались при этом денежные и натуральные приношения должностным лицам, которые делались заранее для успешного продвижения дела. Так, в 1681 г. хлыновские земские целовальники подносили подьячему Хлыновской приказной избы Я. Кускову пироги и калачи к многочисленным именинам царевичей и царевен185. Уездными выборными почести давались по разным поводам, особенно часто непосредственно после приезда в город.
Как правило, размеры «почестей» определялись серьезностью дел, приводивших выборных в приказную избу. В 1673 г. слободской земский староста, приехав «для нового разводу стрелецких денег», выплатил высокие «почести» сразу трем подьячим186. В 1677 г. при привозе в Яренск неполной суммы окладных денег по стрелецкому сбору сборщики уплатили двум подьячим по рублю, объяснив крупные размеры «почестей» следующим образом: «...несли большую почесть для того, что денег огурники не платили, и дать в доход нечего». Недобор стрелецких денег грозил им большими неприятностями и правежем недостающей части187.
О практике поборов со стороны подьячих сибирских приказных изб читаем в помете судей Сибирского приказа 1698 г., в которую рукой думного дьяка А. А. Виниуса сделана по этому поводу специальная вставка: «...всякий (подьячий. — Н. Д.) себе на прожиток ищет, и вымышляет как бы пополнить, и от того в доходех великому государю и челобитчикам чинят многую неправость, а иные от скудости поневоле сей дневной свой хлеб достают в тягость и обиду служилых людей, которые у подьячих государево жалованье принимают»188.
Наряду с «почестями» подьячие получали «поминки», т. е. плату за выполнение определенных работ, часть которых несомненно являлась их прямой обязанностью, но которую они могли произвольно ускорить или задержать. Подобные выплаты почти всегда производились деньгами. Так, в 1666 г. слободским земским старостой было уплачено подьячему С. Синцову за то, что он «подкресную вычитал»189. В 1675 г. вятские земские старосты заплатили подьячему Вятской приказной избы Г. Кар кину за написание отписки в Москву по поводу уплаты ими «сибирского запасу»190.
К этим более или менее легальным способам доходов от дел следует прибавить третий, а именно «посулы», т. е. взятки, получение которых преследовалось по закону. Отрицательное отношение правительства к получению «посулов» можно проиллюстрировать на деле дьяка И. Семенова, которому в 1654 г. за получение с гороховлян бочки вина и вымогательство 30 руб. был «сказан» грозный царский указ, в котором его действия квалифицировались следующим образом: «то ты учинил, аки Христов предатель Иуда, забыв страх божий и государево крестное целование для своих скверных прибытков»191.
Из многочисленных следственных дел можно почерпнуть данные и о размерах и о составе взяток. В 1621 г. приехавшие в Москву целовальники Устюжского уезда пытались предложить думному дьяку Т. И. Луговскому богатые дары: посадские люди — 100 руб., 3 кубка серебряных, 2 золотых перстня; уездные крестьяне — 50 руб., 40 куньих и 1000 беличьих мехов192. В 1663 г., когда был объявлен сыск о злоупотреблениях смоленских дьяков С. С. Титова и А. А. Алексеева по жалобе на них смоленских бургомистров и мещан, выяснилось, что они получили от бургомистров взятку в 200 руб. за то, чтобы передать им на два года откуп кабацкого сбора, дьяки же, взяв деньги, откупа не дали193.
Ухитрялись получать взятки и некоторые дьяки и подьячие «недоходного» Посольского приказа. Так, например, в 1669 г. прием приезжавшего в Москву греческого духовенства находился в ведении старого подьячего С. Полкова. По словам поданной греческим архимандритом челобитной, «он, Степан, для корысти уговаривается прежде с ними и берет с нас посулы великие, а дел не делает»194. Наконец, широко известны дела о взяточничестве думного дьяка Е. И. Украинцева, который в 1694 г. за 200 золотых освободил из тюрьмы бежавшего за границу Ф. Дашкова, а несколько ранее получил 100-рублевую взятку с калужан, за что и подвергся длительной опале со стороны царя195.
Система «кормления от дел», противоречившая установкам правительства и интересам населения, ставила приказной мир в особое положение, способствовала их объединению и выработке у них зачатков корпоративного самосознания. Явление это не было однозначным. Для Центра оно сплачивало служащих одного учреждения от дьяков до молодых подьячих в одно целое, как бы противостоящее обращающимся в приказ просителям. На местах, где «кормление от дел» в известной мере являлось пережитком старых порядков, оно носило более патриархальный характер и способствовало укреплению связей служащих приказных изб с определенными кругами местного населения, позиции которых в городе значительно усилились.
Вместе с тем отношение широких кругов населения к этой стороне деятельности приказных людей было резко отрицательным, что ярко сказалось в дошедших до нас от XVII в. пословицах и поговорках. Приведем некоторые из них: «у приказного за рубль правды не купишь», «вор виноват, а подьячий мошне его рад», «всяк подьячий любит калач горячий», «приказной и со смерти на вино просит», «подьяческий карман, что утиный зоб: не набьешь».
Размеры доходов от дел для приказных людей трудно поддаются учету. Однако для московских подьячих косвенным свидетельством о них может служить сравнение суммы подьяческого жалованья в «выгодных» и «невыгодных» приказах. В 1672 г. в Посольском приказе средний размер денежного жалованья, приходившегося на одного человека, составлял 20 руб., а в Малороссийском — 24 руб. В «выгодных» же приказах Большого дворца и Земском в это время он равнялся примерно 12 руб. Однако, если учесть все другие виды получаемого посольскими и малороссийскими подьячими жалованья, то разница значительно возрастает. Для Малороссийского приказа средняя цифра доходов на человека составит 69 руб., для Посольского — 40 руб., т. е. жалованье подьячих этих последних приказов в 3-5 раз превосходило жалованье, получаемое подьячими других приказов196.
Таким образом, с большими оговорками, можно предположить, что доходы, получаемые большинством подьячих приказов «от дел», в несколько раз (не менее трех) превышали размеры их окладного денежного жалованья и открывали перед ними широкие возможности обогащения.
Общие же денежные доходы основной массы подьячих, как правило, были больше, чем то, что им удавалось извлечь из своих земельных владений, особенно мелких. Во многих случаях, как говорилось выше, ведение собственного хозяйства делалось для них просто невыгодным. Более того, становятся понятными частые случаи поступления на подьяческие должности выходцев из городового мелкопоместного дворянства, для которых постоянный подьяческий заработок оказался более привлекательным, чем временное дворянское жалованье, выдаваемое только во время службы, и мизерные поступления с поместных земель.
* * *
Рассмотрев круг вопросов, связанных с определением классового лица приказной группы в XVII в., следует сказать, что оно не было единым. Приказные люди включали в свой состав как представителей крупной феодальной верхушки (в лице думных дьяков и части дьячества приказного), владевшей большим количеством выслуженных и наследственных земель и эксплуатировавшей труд живших на них феодальных зависимых крестьян, так и значительно большую группу средних и мелких феодальных владельцев — дьяков и подьячих. Вместе с тем часть дьяков и большая часть подьячих были безземельной, не связанной непосредственно с феодальным экономическим базисом массой. Для всех указанных групп денежное жалованье начинает играть все большую роль в обеспечении приказной службы. Не только для беднейшей части подьячих, но и для значительной части дьяков доходы от приказной службы превращаются в основу их благосостояния.
Происходившие на протяжении рассматриваемого периода сдвиги в положении и соотношении указанных групп приказных людей вели, с одной стороны, к классовой поляризации внутри группы в целом (как и внутри всего служилого населения) и, с другой стороны, к резкому увеличению ее деклассирующейся части. Процесс этот наиболее интенсивно шел среди московских приказных людей и замедленно на местах, где местные подьячие все еще удерживали внутренние связи с местными служилыми группами, благодаря сохранению и расширению находившихся в их руках земельных владений в пределах своего уезда, и с местным посадом по общности дополнительных занятий.
175 ЦГАДА. Ф. 138. 1678 г. Д. 2. Л. 45.
176 Там же. Л. 43—44.
177 ЦГАДА. Ф. 141. 1656 г. Д. 8. Л. 1.
178 ЦГАДА. Ф. 145. Оп. 1/6. 1676 г. Д. 9. Л. 10.
179 ПСЗ. Т. III. № 1608. С. 412.
180 ЦГАДА. Ф. 210. Белгородский стол. Стб. 769. Л. 470.
181 Акты исторические. СПб., 1842. Т. V. № 16. С. 26.
182 ЦГАДА. Ф. 159. Оп. 3. Д. 383. Л. 92.
183 Акты, относящиеся до юридического быта. СПб., 1884. Т. III. № 302/IV. С. 100.
184 Акты Московского государства. СПб., 1894. Т. II. № 508. С. 314.
185 ЦГАДА. Ф. 137. Новгород. Кн. 86. Л. 175 об., 184—184 об.
186 ЦГАДА. Ф. 137. Тотьма. Кн. 56. Л. 222 об,—223 об.
187 Там же. Л. 240—241 об.
188 ЦГАДА. Ф. 214. Оп. 3. Д. 1517. Л. 1.
189 Акты, относящиеся до юридического быта. Т. III, № 302/II. С. 100.
190 Там же. С. 101.
191 ПСЗ. Т. 1. № 123. С. 333.
192 ЦГАДА. Ф. 137. Чаронда. Д. 1. Л. 260 (документ указан А. Л. Станиславским).
193 ЦГАДА. Ф. 145. Оп. 1. 1663 г. Д. 61. Л. 15—25.
194 ЦГАДА. Ф. 138. 1669 г. Д. 10. Л. 1.
195 Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1962. Кн. VII. С. 475; Сборник кн. Хилкова. СПб., 1879. С. 336—338.
196 ЦГАДА. Ф. 137. Галич. Кн. 25. Л. 122 об. — 123; Ф. 138. 1671 г. Д. 28. Л. 1 — 10; Ф. 210. Московский стол. Кн. 70. Л. 36 об. — 44, 89—91 об.
<< Назад Вперёд>>